|
©
Михаил Талесников
Ю Б И Л Е Й
Мне скоро семь десятков лет.
Подумал, самому не верится -
я ног еще не кутал в плед,
хоть мерз, и звонко бьется сердце,
и руки тянутся к труду,
пером вооружусь - к бумаге,
законы поста не блюду,
умею пригубить и флягу,
и ем трудом добытый хлеб,
посыпав прежде солью круто,
и авторучка не в чехле -
стихи записывает будто.
Вот, собственно, автопортрет,
что мной нескромно нарисован.
Автомеханик и поэт,
я сплав из техники и слова -
у моря, в городе одном,
что солнцем выгрет и пропитан,
так было там заведено,
рождались некогда пииты...
Там и изваяли меня
родители и предков гены
из волн пены и огня -
материи обыкновенной.
И нуклеиновых кислот,
в душе и вертятся спирали -
их бесконечнейшим числом
ее наполнить постарались.
На срок отмерянных мне лет
отпущено и вдохновенье,
что изредка порой, нет-нет,
являет вдруг стихотворенье.
Порой о молодости - той,
что голодом давила глухо,
фразеологией пустой
кормила впрок, в обрез - макухой.
И ради карточки на хлеб
из пятого забрала класса,
чтобы и мал, и слаб, и слеп,
в трудящиеся влился массы,
высотнейшие воздвигать
над миром коммунизма стройки -
и в пику классовым врагам,
и в укороченные сроки.
О юности, что шла в войне,
родных отнявшей, близких, милых,
что безымянных жгла в огне -
и пепла нет, и нет могил их.
Войне, шагавшей по земле,
дна достигавшей океанов,
мир предававшей боли, мгле,
с лица земли сметавшей страны.
В ее разрывах и дыму,
подобной смерчу круговерти,
уже и Б-г не знал кому
судил Он жизни или смерти.
Как предо мною - вот они,
друзей поры военной лица,
и пусть окончены их дни,
в душе о них молитвам длиться.
Мне выпала удача жить -
вполсилы очередь скосила
обученного лишь служить
России, верного ей сына.
Но Русь мне мачехой была,
а флаг, что над страною реял,
ярился, пыжился, пылал,
касался древком мавзолея...
Не воздвигали пирамид
в соцстранах, камня было мало -
подняли мавзолеи вмиг
и Ленину, потом и Мао.
Отец народов всех времен -
ошибка проявилась дальше,
был после смерти подселен
к вождю, скончавшемуся раньше.
О культе съезду доложил
и доверительно и быстро,
кто век в генсеках не дожил,
поскольку был волюнтаристом.
Ему на смену и пришел
Тараса Бульбы внук удалый,
что правил также хорошо
страной, как и Землею Малой.
Прозаик, критик и поэт,
оратор - был всего он прежде
всегда изысканно одет,
а с дамами так даже вежлив.
Нас кремль марксизмом облучал,
чтобы верны идеям были -
генсек награды получал,
и собирал автомобили.
Окутывал державу мрак,
уже тонуло все во мраке.
Мы не курили - жгли табак,
и пили, длилась жизнь, однако.
И как ни странно, в годы те,
средь экономики развалин,
в закрытости и нищете,
духовно люди прозревали.
И как ни горько, в те же дни,
полз говор по стране неистов,
что в бедах следует винить
советским людям сионистов...
Вот и живу в другой стране,
что стала родиной на старость.
Здесь все по сердцу, все по мне -
жаль, только мало жить осталось.
Страна надежд, страна мечты,
она для каждого годится,
кто может, юбиляр, как ты,
трудиться в ней, и вновь трудиться.
Испытываю благодать,
свой получая чек недельный,
что толику могу отдать
свободной, ей - нелегких денег.
Друзей особый труд найти,
хоть есть немало эрудитов.
В наш гневный век к сердцам пути
круты, извилисты, закрыты.
Талантов - россыпи в стране,
здесь смотрят шире - видят дальше,
но есть и в ней, чтоб жгло больней,
поборники и лжи, и фальши.
Людей характеров не счесть,
изменчива и их натура.
У истинной культуры есть
единственная суть - культура.
Как в жажду алчно воду пьют
до дна, чтоб капли не осталось,
так пью свободу, так люблю
страну, где радость жить досталась.
Мне семь десятков трудных лет,
я жизнь не меряю годами -
стихами, что пробились в свет,
сквозь времени пласты и дали.
июль, 1988 г.
И О Р Д А Н
Нет, это не сон - я напился
воды из реки Иордан,
к которой извечно стремился
народ мой сквозь страны и даль.
Нисколько она не лучше
других, что пришлось мне пить.
Рисунок ее излучин,
как может у каждой быть.
Но мы ее волн накатов
Израильскую суть саму,
Асадам ли, Арафатам -
не отдадим никому!
1973 - 74 г.
М О Й М А Р Т
Хирургу Тагибегову -
с благодарностью.
Как, и сам не пойму я это,
но нередко бывает так:
чей-то голос услышишь, где-то
жест какой-то приметишь, знак -
и далеких воспоминаний
поднимается вдруг волна,
и несет она и страдания,
грусть и радость несет она.
Стоит ветру завыть в антенне
над машиной, Ягой завыть -
тянет память из дней военных
кровью выкрашенную нить.
И уже я верчу не "Волги"
с золотистым оленем руль,
а на поиск иду за Волхов,
и эсэсовца в плен беру.
Там, за просекой, темный ельник
по колени завяз в снегу,
и к нему доносится еле-еле
орудийных разрывов гул.
А левее его, и справа,
в маскхалатах немая цепь,
тех, с которыми мы по праву
все делили - и смерть, и хлеб.
Тишина... Хоть ружьем играя,
как в гражданке, косого бей -
только мы тишину ту знаем,
и нисколько не верим ей:
ведь не зря комполка на карте
тот особо отметил дот,
чей в холодном рассвете марта
вышел взорванным быть черед.
Где вы, где - из Уфы, Рязани,
душу ранившие мне вновь,
смертью ранней своею - Занин,
Всеволодов и Шадрунов?
Тишина - и ничто не изменит
предначертанному здесь быть.
Воет ветер Ягой в антенне,
как один он умеет выть.
Перед боем лихим, который -
знаешь - будет жесток и лют,
нам особенно мил и дорог
снежный, выдуманный уют,
что так нищенски мал и краток
потому что - гляди вперед -
вот уже и пошла атака,
как прошил его пулемет.
Миг, и в ярости весь дрожащий,
смерть выплевывающий, "пэпэша"
беспощадно врагов разящий,
фронтовая моя душа -
так сшибает, да так и косит
их, явившихся сеять мрак,
никогда к нам никем не прошенных,
длинных, гитлеровских вояк,
оборачивающих спины
догоняющим взрывам гранат.
Вот и мой - тот, кто все же вскинул
встреч мне лающий автомат...
Ах, давно уже лет за тридцать,
как влюбленный в шофёрский труд -
как у нас о том говорится -
я колесами город тру.
Но, наверное, я б заплакал,
как мальчишка несчастным был,
если б в жизни хоть раз собаку
ненароком машиной сбил.
А фашистов хотел бессчетно -
комразведки - не ас такси -
в преисподнюю, в пекло к чорту,
так огнем своим и сносить.
Нет удачи крупней - сражаться,
жить в боях - и остаться жить,
и свой счет ведя, девятнадцать
в них прицельным огнем уложить.
Девятнадцатым был то самый,
встреч мне лающий автомат
в грудь нацеливший, в душу прямо,
длинный гитлеровский солдат.
Как в атаке той залихватской,
снова остро и горячо,
будто полнится болью адской
грудь моя и мое плечо...
Двадцать метров всего разбега,
третья скорость - и полный газ.
Ах, спасибо, хирург Тагибеков,
что мне сердце и руку спас.
Что там сердцу кромешность боя,
если вышел приказ ему
дот разрушить любой ценою,
случай - выжить от ран к тому.
Что плечу и руке усталость,
если хочется труд снести,
чтобы пользы, хотя бы малость,
людям все-таки принести,
даже эти слагая строки -
в пальцах сжав перо-автомат,
про Отечественной, далёкий,
мой, пропитанный кровью, март.
1949 г.
Ю Б И Л Е Й (80 ЛЕТ)
Мне восемьдесят лет,
я жив и даже весел,
хоть есть печать и след
восьмидесяти весен,
восьмидесяти лет,
и десять раз по восемь
поры, что целый свет
зовет лирично - осень.
А что до счета зим,
то толику лишь, малость,
до энской, что сразит,
всего мне жить осталось,
что станет как-то раз
свидетельницей факта -
высоковольтных фаз,
блестящего инфаркта.
Я семьдесят из них,
проснувшись, спозаранку,
сидел над грудой книг,
вертел такси баранку,
а если вдруг меня
пронзало вдохновенье -
в ночи, в заботах дня,
слагал стихотворенье.
Но в собственной стране,
где как-то жил, устроен,
дышалось трудно мне -
в ней числился в изгоях.
Ты выдал сто идей,
комету обнаружил,
но если иудей,
стране ты был не нужен.
И из СССР,
что родиной являлся,
изгоям тем в пример,
я в США и перебрался.
И хоть родным и был
тот мир, что незабвенен,
я новый полюбил -
будь он благословенен.
Мой добрый, светлый дом,
что дорог стал навеки,
и я ваял трудом
почти что четверть века,
и музам чтоб служить
неистово, сгорая,
труда решил сложить
доспехи лишь вчера я.
Поскольку жизнь вся
и длится-то мгновенье,
сквозь время колеся,
в плену его движенья,
я творчеству отдам,
не праздности и лени,
души и близь, и даль,
восторги и смятенья.
Мне восемьдсят лет,
но в пику всем обетам,
вина люблю я цвет,
и запах сигареты.
Поборник правил, прав,
почти уравновешен,
бываю реже прав,
бываю чаще грешен.
Мне восемьдесят лет,
но отличиться есть чем -
эстэт, мужик, поэт,
люблю прелестных женщин.
Да и ко мне они,
сердцам своим послушны,
в былые, правда, дни,
были неравнодушны.
Прекрасна все же жизнь,
в каком ни мчалась б русле,
забавная кажись,
исполнена ли грусти.
Спасибо, жребий мой,
что без микстур, облаток,
закончил я восьмой
мелькнувших лет десяток.
07/26/99
КОГДА ТЕБЕ ЗА ВОСЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
Когда тебе за восемьдесят лет,
пускай ты добр и щедр душой к тому же,
умен, философ, эрудит, поэт -
ты никому ни капельки не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
пусть был в войну ты ранен ли, контужен,
на той, что грудью защищал земле,
и этой, здесь - ты никому не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
серьезно заболел ли вдруг, простужен,
нуждаешься в уходе и тепле -
тем более, ты никому не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
а времени грустнее нет и хуже,
хоть волком вой, молчание в ответ -
умолкнувшим, ты им давно не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
вдоль улицы плетешься, неуклюжий,
нет никого и рядом, и вослед -
в попутчики ты никому не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
и боли рвут суставы, грудь утюжат,
и у врачей от них лекарства нет -
ты и врачам своим уже не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
в ночи нередко мыслью ты разбужен,
что обойди, изъезди целый свет,
ты никому нисколечко не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
и труд собрать себе порою ужин,
приходит мысль - жить резона нет
затем, что ты и сам себе не нужен.
Когда тебе за восемьдесят лет,
Б-г чтит Один в тебе лишь старца-мужа,
в парчу ты или в рубище одет,
нёс радость или сеял зерна бед,
был верен слову, или рвал обет,
за все пред Ним тебе держать ответ,
к Нему иди, Он лучезарный свет,
и мертвый ли, живой - Ему ты нужен.
2000, USA.
Памяти Ивана Занина
С Т И Х И О Б О Л И
Сраженное болью,
дышать устает
и биться - тем более,
сердце мое.
Ну что, чтобы было
втерпёж нам двоим,
поделать с немилым
мне сердцем моим?
И утром, и ночью,
и в полдень любой,
разит его в клочья
нещадная боль.
Тревожит, печалит,
до дрожи лица.
Ей было начало -
ей нету конца.
Еще не хотела
сдаваться зима,
рождался в метелях
за Волховом март.
Все звонче глядела
на землю луна -
ей не было дела,
что в мире война.
Ее безмятежный
бесстрастен был лик,
как тропкою снежной
мы к доту ползли.
Когда я борьбы
непреложность постиг.
И мне не забыть,
в разорвавшийся миг,
как рухнул в момент
дот от взрыва в ночи,
ту боль я в момент
и в упор получил.
И некуда деться,
сраженьям отбой,
а в сердце - а в сердце
осталась та боль.
Живет и сейчас,
память зло теребя,
со временем мчась
вперегонку, губя.
И все ж, небогата
войне моя дань,
вот Занин, Иван, тот
ей жизнь отдал -
разведчик мой бывший,
погибший в тот бой...
Ах, боль за погибших
острее любой.
Но полное боли,
все же поет
любовью, любовью,
сердце мое!
Март, 1952.
От автора
К-р полковой разведки 1012 стр. полка, (288 стрелковой дивизии
4-й Армии генерала Мерецкова). 9 марта 1942 года я был ранен
в разведке боем на Волховском участке Ленинградского фронта
в районе сел Пехово и Пертечно. Всего лишь 58 лет тому назад...
И Н Ф А Р К Т
Торопящийся и вкрадчивый,
мне изранить сердце - факт,
в час судьбою мне назначенный
он явился, мой инфаркт.
Очевидно, не положено
мне дожить до склона лет.
Смерть есть вечный сон, умноженный
на землицы вкус и цвет.
Там, в небесной канцелярии,
где налажен всем учет,
еженощно воет арии
нас к себе сзывая, чорт.
Меломану слух взыскательный
дисгармонией смутив,
их ничем не примечательный
должен нравиться мотив.
Чем безжизненной материей
в полраспада годы тлеть,
лучше трудною потерею
неожиданно сгореть.
Неожиданно-негаданно
обратиться в прах и тлен.
И ни слёз тебе, ни ладана -
в три аршина вечный плен.
Торопящийся и вкрадчивый,
подогнав свой катафалк,
в час судьбою мне назначенный
Он явился, мой Инфаркт.
В О С Е М Ь Д Е С Я Т П Я Т Ь
Мне сегодня восемьдесят пять.
Странно было сущность мне принять
Временем накопленного факта,
Но пришлось. И я о нем прочту
Восемь строф стиха, поскольку чту
Все же годы прожитые как-то.
Через что не выпало пройти
На предлинном жизненном пути,
Легче вспомнить было бы намного.
Голод, труд, потери, кровь, война,
И ранение, и "криминал
Стихотворный" - вот мои дороги.
Только эту тему грусти длить,
Что на раны с солью воду лить -
Я ее поглубже в сердце прячу.
И в душе тогда потише боль,
И светлей и ярче день любой,
И воспринимаешь жизнь иначе.
Что же в ней мне предстоит ещё?
Может лет уже немалый счёт
Вырастет, незлой судьбы подарком,
Творчества не потускнеет свет?
Годы - чайки, как сказал поэт,
Все бледней их в небе след неяркий...
Как уйду, появится и мой,
И потянется он над страной
Давшей мне язык, и Новым Светом,
Полон чувств и мыслей в сотни ватт.
К сожаленью, слеп и глуховат
Наш читатель к творчеству поэтов.
Хорошо, что времени поток
Принял в интернет, с собой увлёк,
Что писалось мной порой и кровью.
Может быть, блуждая по нему,
Время наше вызнают, поймут
Правнуки в своей безгрозной нови.
Я хочу, чтоб стала жизнь иной,
И друг друга жечь, разить войной
И террором перестали страны.
Я желаю каждому дожить
До поры, когда любить, дружить
Все стремиться будут неустанно.
Мне сегодня восемьдесят пять.
Странно было сущность мне принять
Этого свершившегося факта.
Стих - ему моя признанья дань.
Всем прийти в такую жизни даль
Я желаю искренне, де-факто!
2003,
USA.
|


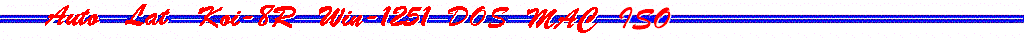
 borisba@borisba.com
borisba@borisba.com

